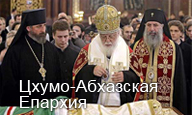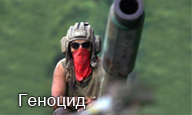Зинаиде Хеладзе-Меликидзе
Предисловие
В «Падении» представлены факты после взятия Сухуми и падения всей Абхазии, на фоне которых разворачивается история падения и взлета людей, которая присуща войне. В свете трагедии отдельных людей представлено общее лицо войны.
Описанная в «Падении» история почти документальна. Ее герои далеки от художественной выдумки (или художественного вымысла) и являются реальными лицами. По известным причинам назвать их имена я воздержался. (По определенным причинам о конкретизации их имен я воздержался.
На тему воны в Абхазии опубликовано более 100 моих газетных статей, но книгой опубликована только одна..... потому, что она продолжает тему, описанной в «Падении».
До публикации «Падения» под грифом «Ахалгазрда Ивериели» в июле 1993 года издавалась авторская газета «Война», с тем же названием, более емкая книга о войне в Абхазии, которая основывалась на воспоминаниях очевидцев. Она богата фотографиями и очень эмоциональна. Книга «Война» давно воюет в издательской войне, надеюсь победит и увидит свет.
Для меня человек и его человеческая природа всегда превыше всего. Насколько высветилось лицо человека из руин войны в Абхазии, его свет и тени, судите сами, дорогие читатели.
С уважением от автора.
***
Грузинские вооруженные силы оставили Сухуми, а затем и всю территорию Абхазии. Часть гражданского населения оставила свои жилища и избежала нашествия захватчиков, но другая часть, к сожалению, не смогла этого сделать и осталась совершенно незащищенной в руках захватчиков. Часть из них была зверски уничтожена (5 тысяч), а часть, которая осталась жива, перенесла такие муки и страдания, которые были хуже, чем смерть. «Пережившие смерть», рассказывая о пережитом, стращно волнуются, видно, как комок поднимается к горлу и слезятся глаза, или вдруг вспыхнет взор. Трудно говорить о пережитом, но молчать еще трудней.
За два дня до падения Сухуми, выглядывая из форточки, мы заметили, что к городу приближаются танки и бронетехника. Их было более 26 единиц. Об увиденном мы сразу сообщили в комендатуру. Пришедшие бойцы в бинокль осмотрели указанные места, подтвердили сказанное и увиденное нами, и в тоже время успокоили нас: «Не бойтесь, мы их уничтожим, город надежно защищен». В те дни радио и телевидение успокаивали население: «Не волнуйтесь, не поддавайтесь панике», - вещал эфир. Успокаивал народ и глава правительства Эдуард Шеварднадзе, который находился в то время в Сухуми. Народ поверил этим обещаниям и не начал эвакуацию. Не думали об этом и власть имущие, наоборот, призывали народ вернуться в Сухуми.
С передней линии фронта, с изувеченного взрывании Сухуми я на несколько дней приехала в Тбилиси. После двух уже нарушенных и третьего договоров, вступивших в силу, успокоившиеся горожане начинали мирную жизнь....
Вскоре, со мной связались из Сухуми и попросили, чтобы я приехала к началу учебного года. Я не спешила. Мне позвонили вторично и предупредили, что налаживание мирной жизни в городе – дело государственной важности, и кто не будет принимать в этом участие, будет освобожден с работы.
После моего возвращения в Сухуми, третий мирный договор постигла та же участь, что и два первых договора. Бомбежка города становилась все более и более интенсивной. Снаряды взрывались все ближе и ближе к нашему дому. Дети понимали опасность и не играли. Мы сидели обнявшись и постоянно смотрели на потолок – обрушится он или нет. Если после взрыва потолок оставался невредимым, то с облегчением дружно вздыхали. Часто мы созванивались с военным штабом и комендатурой, от которых получали один и тот же ответ: «Не бойтесь, Сухуми не подет»! Нас то они утещали, но страх и озабоченность в их голосах явно слышались.
В один день я заметил довольно большую группу солдат, бежавших со стороны фронта. Я остановила их и спросила, что происходит. «Ничего, просто пересменка», - ответили они. Потом попросили воды. Напились и удалились бегом.
В доме остались только женщины. Свекровь и золовка не решались оставить пока неразграбленную квартиру. Я все время со страхом смотрела на потолок, потом не выдержала, одела детей и решила уйти из города. Не прошли мы всего несколько кварталов, как стрельба усилилась. В городе взорвалась несколько снарядов. Находиться на улице стало опасным и я решила укрыться у знакомой женщины, которая рассказала:
- «Я тоже решила уйти. Мне сказали, что с Агудзеры отходят корабли. С большим трудом я добралась туда. Корабль настолько был переполнен людьми и скарбом, что я еле взобралась на него. Но не успели поднять якорь, как появились катера противника и открыли огонь. Кругом свистели пули, а когда попадали в корпус, то издавали страшный звук. Люди бросились в рассыпную. Кто вместе с детьми пригал за борт, кто в панике истерично кричал. Кругом лилась кровь. Попав не берег, я решила вернуться домой и ждать там решение судьбы.
Мы беседовали, когда нам послышались голоса. Открыв двери балкона, мы выглянули на улицу. Там находились люди в форме и о чем-то совещались. Я подумала, что это очередная смена и спросила их, как идут дела.
Бойцы удивленно посмотрели на нас. «Эй, девчата, вы здесь?» - и смеясь и толкая друг друга, двинулись к входу в дом «Враги» - эта мысль беззвучно прошла по всему телу. От неожиданности отнялся язык. Хозяйка схвотила меня за руку и прошептала: «Открой брови, а то всех, и малых и больших перестреляют». В ее расширенных от испуга глазах виднелась такая мольба и страх, что я без слов подчинилась. Взяла детей за руки, мы спустились на встречу гостям. Они уже стояли у дверей.
- «У вас грузинские бойцы не прячутся?» - спросили они.
- Что им здесь делать?» - вернула вопрос уверенно хозяйка.
- «Это квартира, а не убежище бойцов. Им тут прятаться? Что вы», - ответила я и вывела вперед детей.
Наверное, испуганные глаза наших мальчиков возымели какое-то воздействие и враги в нашей искренности не усомнились.
- «Очень хорошо» - скорей себе, чем нам проговорили они. «Сейчас мы идем на штурм Совмина, а потом обязательно вернемся».
Еще раз взглянули на нас и посчитав наше молчание за согласие, спешно удалилсиь.
Спрятавшись за штору, мы наблюдали за улицей и военными, идущими на штурм Совета Министров. Проехали несколько танков и бронемашин.
На некоторых из них были надписи белой краской «Апсны», «Смерть грузинам» и т.д.
Совет министров Абхазии находился в 200 м. от нас и канонада штурма отчетливо доносилась до нас. Стреляла тяжелая техника, и не прекращались автоматные очереди. Временами мощные взрывы потрясали окна. Охваченные страшными переживаниями, мы молча сидели. Дети вроде привыкли к стрельбе, но страшные переживания обескровили их лица. Ученики 1-го и 3-го классов, пркрасно понимали ужас, творимый вокруг. На фоне взрывов и стрельбы комнатная тищина еще более удручала нас.
Снаружи раздавались душераздирающие крики и стоны людей. У меня было ощущение, что я слышала это не слухом, а словно врезались они в мою плоть, как обоюдно острый кинжал и ледянной холод охватил мое тело. Страх сковал мое сердце, я не могла подняться со стула. Сама мысль, что рядом погибают и просят о помощи люди, но мы ничем не можем помочь им, раздирало душу.
Невольно, я вспомнила про птичку и ее беспомощных птенцов. В детстве, оказывается, чаще всего я просила родителей рассказать именно эту сказку о лисе и маленькой птичке. Они рассказывали, а я плакала. Жалела птичку и ее птенцов, напуганную вооруженной топором лисой. Всем существом ощущала безвыходное положение «чиоры» и заливалась слезами. Плакала, но все таки более всего любила эту сказку, жалела птичку, которая не имела никакой возможности для самозащиты и покорно выполняла капризы врага. Наша беспомощность напомнила мне эту историю. Я горько улыбнулась, вспомнов мою наивность.
Наступил вечер, звуки выстрелов постепенно утихли. Вокруг страшно потемнело. И в другие дни, Сухуми был не очень освещен, но первая ночь после его падения была неимоверна темна. Как будто солнце, традиционно опустилось не в дали моря, а скрылось бесследно, опустив на город черную вуаль. О таких ночах говорят, что трудно поднести к глазу палец. Стоны, крики и стрельба все продолжались. Все это время мы не шевелились, сидели молча и боялись зажечь даже свечку. Позже постучались и в нашу дверь. Хозяйка открыла и в комнату вошли как раз те боевики, которые с нами разговаривали ранее (днем). Войдя, они сразу спросили: «Не прячем ли кого-либо». Получив отрицательный ответ, уселись за стол и попросили еды.
Хозяйка зажгла лампу, выложила на стол две, испеченные дома, буханки хлеба и виновато сказала, что больше ничего нет. Потом, в шкафу отыскала инжировое варенье и его тоже принесла. При свете свеч они открыли банку и сняли плесень с варенья. Один, сверкающей финкой нарезал хлеб на равные ломти и распределил на всех. Не побрезговали и плесневелым вареньем, аппетитно ели и вспомнили, как брали здание правительства, как взяли Шартава и его группу живыми. Всего там мы собрали до девяноста грузин и всех расстреляли. Потом наши подожгли здание Совета министров. Огонь взметнулся в высоту и здание колыхалось, как одно огромное пламя.От температуры стекла с треском взрывались, даже пришлось отступить. Наши парни там устроили такую бойню, что живьем вряд ли кто должен был остаться. Но неожиданно из огнева вышел один грузин. Атлетичный, высокий, в ладно сидящей военной форме он выглядел очень мужественно и красиво. Сколько мы воюем, но такого красивого грузина не видели. Автомат у него был опущен к земле, видно было, что пользоваться им он не сибирался. Удивительно было то, что никакого страха и спешки он не проявлял. Несмотря на то, что все здание было окружено и горело, он спокойно, мелким шагом спускался по лестнице. Его спокойствие и мужественность нам так понравились, что мы завороженные смотрели на него. Кто-то приказал ему бросить оружие. Он на мгновение приостановился, приказ повторился, но настоящему воину живым бросить оружие – позор, и он вместо того, чтобы бросить автомат, мелким движением руки перебросил его на плечо. Руки опустил и продолжал движение по направлению площади.
«Вот боевик!» - проговорил кто-то из нас, и не сговорившись все решили в него не стрелять. Но в это время, стоящий левее нас какой-то абхазец выпустил в него целую обойму и убил грузинского воина. Но Умирал он тоже красиво: в начале всем телом поднялся вверх, руки взметнул ввысь, как будто хотел взлететь, потом опустился на колени и навзничь упал на лестницы. Истинный воин должен уважать мужественного врага. Из-за расстрела грузина наши ребята искренне обиделись и обматерили того абхазца.
Когда мы к нему приблизилсь, он лежал без признаков жизни, а кругом лилась кровь. Один из нас взял его автомат и передернул затвор. В нем патронов не было. В беседе выяснилось, что те 5 бойцов, которые были нашими незванными гостями, относились к группе черкесских боевиков. На стороне абхазцев в основном воевали объединенные по национальному признаку отряды. Видимо, историю смерти грузинского воина мы так внимательно и на одном дыхании слушали, что у пришедших возникло желание узнать нашу национальность. Мы старались, чтобы они нас не уличили во лжи, ибо это неминуемо привело бы к нашему наказанию и поэтому, без всяких обиняков признались, что мы грузины.
- Грузины» - удивились пришлые и как ошпаренные, вскочили с мест. У черкеза, который у стола чистит оружие, от неожиданности какая-то деталь выпала из рук и грохотом упала на пол.
- «Если грузины, то почему не убежали?» - спросили они.
- «Считаем, что мы невиновны и поэтому не убежали – ответили мы.
- «Мы ели ваш хлеб и поэтому наш адат не даст право поступить с вами дурно, а то что вы заслуживаете, мы знаем, - ответили они.
- «Сейчас мы обыщем дом и если найдем оружие или хотя бы одну пулю, то пеняйте на себя.»
Они искали причину, чтобы наказать нас. Ходили из комнаты в комнату и искали несуществующее оружие. Искали они очень тщательно. Меня охватил страх, оружие то они не найдут, но вдруг один какой-то патрон, если найдется, то наши дела будут плохи. Искали они настолько скурпулезно, что не забыли заглянуть и в такие места, куда наверное, хозяева не заглядывала годами.
После долгого обыска, мы с облегчением вздохнули. В доме кроме кухонного ножика ничего не обнаружили. Нам опять стали доверять. Ту ночь мы провели не раздеваясь. Утром наши гости собрались уходить. «Будем брать Очамчира и Гали», - сказали они.
- «Вам повезло, что вы повстречались с нами, а то, если попались бы другим, то не такая безболезненная была бы эта ночь для вас.»
За это мы их вежливо поблагодарили.
- «Постарайтесь себе помочь, а то после нас сюда придут другие и если не убьют, то такое вам устроят, что смерть будет желаема», - предупредили нас они.
Осмелевшая таким отношением, я их попросила отвести меня вместе с детьми к себе домой, так как здесь находилась у близких, а жила тут же рядом, пояснила я.
- «Выйти на улицу нам небезопасно, и может вы нас проведете до дома». Они согласились.
Взяв детей за руки, мы вместе с бойцами вышли на улицу, откуда слышны были звуки выстрелов и криков. Расстреленное мирное население волялось прямо на земле, в основном это были женщины и мужчины преклонного возраста. Заметила я труп и ребенка. В пределах двух кварталов я насчитала 9 трупов. В основном это были жители моего района. Многих я знала.
В Сухуми был один довольно известный педагог грузинского языка и литературы. Через его руки прошли многие поколения. До глубокой старости он не оставлял школу. Но когда проблемы зрения его очень побеспокоили, сказал: «Пока дети надо мной не будут смеяться, лучше уйти самому». За те два года, которые он оставил школу, быстро постарел. Одно время я видела его гулящим в парке, потом, видимо, проблемы зрения еще больше усугубились. И он перестал появляться на улице.
Он лежал у ворот своего дома. Лицо было такое спокойное, что он больше был похож на спящего, чем на мертвого. Изо рта стекала кровь и красной лужой растекалась на земле. В своих худых руках он держал очки с выпуклыми линзами. Несчастный, он не успел даже одеться, так его вывели наружу. Комнатные чусты валялись возле него.
Увидела я и труп продавшицы нашего хлебного магазина. Она была полная, пышная женщина с очень добрыми глазами. Когда она мне подавала хлеб, то всегда выбирала самую лучшую буханку. Во время войны с хлебом были проблемы и в магазины его почти не завозили. Продавшица, томясь, сидела в магазине и через большие витрины смотрела на улицу. Ее добрые глаза выражали такое ожидание, как-будто хлеб могли привезти с минуты на минуту. Проходили дни, недели, месяцы, война не кончалась, и хлеба не видно было ниоткуда.
Бедная, наверное, хотела убежать, но пули ее настигли со спины, и она лежала навзничь, обнимая землю. На белом, чистом халате виднелось бурое пятно крови. Она лежала в такой неудобной позе, что платье задралось вверх, и виднелись длинные панталоны, на которых роились черные мухи.
Узнала я и труп русской цветочницы. Она была маленькой, хрупкой женщиной. Муж у нее скончался рано, и она осталась одинокой. Воспитывала она дочь, но когда она вышла замуж и уехала в Архангельск, то потом ни разу не навещала мать. Старушка в консервных банках разводила цветы и потом перед своим домом продавала их. Она жила на пенсию и на деньги, вырученные продажей цветов. С грузинами она всегда разговаривала на ломанном грузинском языке. Она сидела на асфальте, прислонившись к стенке с широко раскинутыми ногами и опрокинутой навзничь головой. Вязанный ручной работы берет, упавший с головы, валялся между ее ног. Одним взглядом цветочница была похожа на попрошайку, но просить ей уже было нечего.
Пришельцы смерть раздавали по заранее задуманному этническому национальному признаку, поэтому убийство цветочницы меня удивило. Кто знает, почему убили бедную? Может, приютила грузин, а может попросили что-то непристойное, и она отказалась?!
Увидела и труп душевно больного нашего района. Он на Дальнем востоке служил в армии и там от какого-то испуга сошел с ума. Куда его не возили, где он не лечился, ничего не помогало. Большими озабоченными глазами бродил он по городу, но никому не мешал, даже детям. Все время и зимой и летом на голове носил военную шапку. И если кто-нибудь обращал на нее внимание, он чуть ни плача молил: "Фуражка, не отнимай. Ее дали в армии, не отнимай, ато поймают,!"
Если видел скопившихся людей, то сразу во весь голос кричал: "Господь идет, вредные, злые люди, Господь идет!" Люди со смехом отвечали: "Не Господь, а Васико идет!" Но чокнутый Васико на это внимание не обращал, ошалело вертел, как сито большими глазами и всем голосом орал: "Господь идет, вредные люди, Господь идет!"
Его труп с открытым ртом валялся на улице, и мне показалось, что с его уст опять слышется предупреждающее возвание о приходе Господа.
- "Бедняга, где здесь Господь? Если Он в правду идет, то почему не пришел остановить этот ужас?" - проговорила я про себя и продолжила путь.
Провожавшие не дали мне возможности остановиться около убитых, довели до дома и отправились в Очамчире.
Дома меня встретила избитая и оскорбленная свекровь. Оказывается, одна группа захватчиков ту ночь провела в нашем доме. Свекровь, родовую княгиню и настоящую аристократку, заставили снять с них сапоги и стирать потные носки.
Потом заставили приготовить еду и принесенной с собой водкой отметили победу.
В нашем дворе жила семья, хозяйка которой по происхождению была черкешенка, и они спрятали у себя мою золовку. Увидев меня и детей, с посиневших глаз свекрови полились слезы.
- «Я думала, что вы уже спаслись, а вы оказывается застряли в этом аду?!»
Наша квартира превратилась местом сборища захватчиков, и там оставаться было невозможно. Поэтому мы спрятались у той черкешенки. Вечером та группа, которая ночевала у нас. Обратно вернулась. Они принесли с собой выпивку, еду, заставили свекровь накрыть стол и всю ночь пировали, кричали и беспорядочно стреляли. А мы прятались у соседей и ничего не могли сделать. Сидеть без движения детям было трудно и они начали капризничать. Пир затих поздно, а утром они с криками и шумом высыпались в город. Вскоре они вернулись, схватили мою свекровь и выталкали во двор.
- «Старуха, где ты прячешь молодых женщин? Выводи, не то тут же убъем, как собаку.»
Худая, избитая старушка стояла среди врагов, не проронив ни слова. Один схватил ее за руку, встряхнул: «Слышишь, выводи молодых, ведьма, не то....»
Ее ругали, пинали, а она стояла молча и смотрела в землю. Потом один боевик толкнул ее к стене. С криком «нас не обманешь» - и выпустил в нее автоматную очередеь. Старушка чуть задрожала, пули прижали ее к стене, подогнулись колени, и она без единного звука упала на землю, на которую чуть раньше странно смотрела, не отводя глаз. Она так испустила дух, что ее плотно закрытые губы даже не шевельнулись. У бедной, наверное, кровь от ужаса так застыла, что на землю не упала даже капля, только около пулевых отметин чуть покраснела одежда. Все это так молненосно случилось, что помочь мы не успели, мы в шоке выбежали из дома соседей, но уже было поздно. Захватчики к ней нас не подпустили и прямо погнали к лнстнице нашей квартиры.
- «О, красавцы, неужели вы не знали, что от нас спрятаться невозможно?! Таким хорошеньким нечего было скрываться. Пока мы вас ни чем же не обидели? А вы прячетесь и этим оскорбляете наше достоинство. Да и эту старуху мы из-за вас зря расстреляли».
До 12 мужчин окружали нас и цинично корчас, жуя слова говорили: « Убегаете», «прячетесь», «отварачиваете лицо», «не хотите нас видеть и т.д.» - повторяли они. Плача, я прижала к себе испуганных детей.
Нас попыталась защитить соседка черкешенка, но возбужденные боевики ее обругали и прогнали.
- По закону войны ты наша, пойдем, мы тебя научим, как надо прятаться и играть в жмурки, - сказали они моей заловке, которая сидела в начале лестницы и от плача и страха ничего не понимала, находясь в обморочном состоянии. Один боевик схватил ее за плечо и силой поднял. Я бросилась к нему и попросила: "Хватит нам боли, не губи до конца." Он оттолкнул меня и стал тащить ее по лестнице.
- "Оставь ее, она девица, не унижай, со мной делай, что хочешь", - просила я его.
В это время другой боевик схватил меня за талию и утащил в сторону. Золовка упиралась и вертелась, как брошенная на землю форель. Разъяренный черкез, правой рукой подхватил ее меж ног и поднял как ягненка. Она вертелась и кричала, но он взбежал по лестнице и вошел в квартиру. Второй взял меня к себе подмышку и потащил на верх. С комнаты слышался дикий крик золовки, меня насильник завел в другую комнату и бросил на кровать. Оружие оставил галдящим друзьям и запер двери изнутри. Что-то бормоча он стал приближаться. Я ничего не хотела слышать. Он понял, что разговором со мной ничего не получится, схватил меня и распластал на кровати.
Я брыкалась, старалась руками и ногами оказать сопротивление, но он был настолько силен, что у меня ничего не получалось. Наконец, я обессилела и, почти без чувств, валялась на кровати. Боль, слезы, оскорбление, стыд, унижение - все смешалось воединно. Насильник, не раздеваясь, чуть опустил брюки и грозным стоном окончил свое дело. Ничего не сказав, поправил брюки и вышел из комнаты. Как только он вышел, в комнату ворвался другой. Он ничего не говоря, как какой-то домашней вещью попользовался мною, и ушел. За ним последовал второй, третий, четвертый, десятый, четырнадцатый и обратно все повторялось сначала. Уже второй раз заходили те, ктоторые были первыми. Рядом в комнате они пили водку, громко говорили, смеялись и заходили ко мне по очереди. На мои просьбы и плач никто внимание не обращал. Наконец, все куда-то ушли, в доме наступила тищина. Воздух был пропитан запахом их пота и пороха.
Я ненавидела свое истерзанное и грязное тело и впервые подумала о самоубийстве. Голая, уничтоженная валялась на кровати. Насильники так постарались, что на мне не осталась целой никакой одежды, кроме креста. Меня охватила уничтожающее чувство стыда, стыдно было за все и перед всеми, особенно перед собой. Стыдно было и перед этим маленьким крестом, который сполз с груди и находился под шеей. Может неверные захватчики специально, не сняли крест, чтобы свою грязную страсть удовлетворить с женщиной, носившей крест и от этого ощущали особый азарт. Этот крест я носила со своего крещения и я его никогда не снимала. Помню, в школе носила красный галстук, а на груди крест. Этот крест был единное целое со мной, я его не снимала даже тогда, когда рожала детей, не смотря просьбу врачей. Это был традиционный грузинский крест. Три верхних крыла означали символ троицы и оканчивались тремя округлыми формами, а на плоскости был изображен Господь. И кресть и цепочка были золотыми. Этот самый дорогой для меня крест я бережно сняла с себя и не глядя на него, положила под подушку.
Взглянув в окно, я увидела листья клена, которые как-то особенно колыхались, что невольно вспоминалось движение ладони рук, раскрытых для прощания. Странное движение листьев и впрямь напоминала движение провожавших рук, видимых с поезда. Перед глазами встал образ огромного клена, стоящего во дворе. Несчитаемое количество листьев дерева с кем-то или чем-то прощалось. Оно стояло в середине двора, окруженное домами. Оно было настолько высоко и раскидисто, что как зонтик накрывало двор. 10 лет назад, когда я впервые вошла в этот двор, на ветвях дерева висели лампочки, которые освещали накрытый для свадьбы стол. Это странное дерево так привлекало мое внимание, что я шла подняв голову и запуталась в своем подвенечном платье, и если бы меня не подхватил мой жених, то обязательно упала.... - "Ой, не дай Бог, невеста упадет" - вскрикнули гости и сотни рук потянулись ко мне. Тогда на мне было одето белое свадебное платье на бретельках. От фаты, которую я не любила с детства, я отказалась и накрыла голову белым шелковым платком. Те, кто видели фотографии того времени отмечали, что на фото я была похожа на Божью Матерь. В белом платке я и впрямь была похожа на фреску, на фреску Божей Матери. А сейчас похожа на женщину из дома терпимости. И даже любимый мой клен медленным колыханием не то листьев, не то рук, прощался с той женеской честью и достоинством, которую я десять лет назад принесла в этот двор. Тогда как раз был сентябрь.
Тяжелая, как падаль, тело я еле подняла и подошла к окну. Мои мальчики с красными от плача глазами сидели на бревне, брошенном у стены соседей. Младший в руках держал какие-то иностранные конфеты с фантиками, такие же валялись у ног старшего. Наверное, эти звери угостили детей, но дети их конфет не ели. Дети отвергли, подаренные врагом конфеты.
Но может, они отвергнут обесчещенную врагом мать. Эта мысль, как стрела, пронзила мое сердце.
Они не должны увидеть меня такой. Дети не должны видеть уничтоженную мать, мелькнуло в голове, и я метнулась к воде. Дверь ванной закрыла изнутри, и истерзанное тело обмыла холодной водой. Всбодренная холодной водой, я начала тереть тело, пока оно не покраснело и стало гореть, но я все равно продолжала тереть, чтобы стереть все, что касалось врагов. Да, можно смыть тело, но душу?! Что очистит душу от этой грязи?! Когда я осушала тело, поняла, что забота о жизни детей, инстинкт женской чистоты двигал мною. Покончить жизнью я уже не могла.
Из комнаты, куда завели золовку, послышался плач. Открыв дверь, я увидела, что насильники перетащили тахту в центр комнаты, на ней в изорванной одежде навзничь лежала золовка. На полу валялись окровавленные лахмотья ее одежды. Перевернув ее, я увидела опухшие от плача лицо, с расчлененной и окровавленной нижней губой. На теле виднелось множество кропотеков. Я ее одела в халат и омыла лицо. Чуть придя в себя, мы спустились вниз.
Соседка детей увела к себе, а труп свекрови накрыла простыней. Мы даже мать не смогли оплакать слезами, потому что их у нас не было. С помощью соседки, там же во вдворе, выкапали могилу. Как смогли поблагодарили старушку. завернули в простыню и так же, без слез передали земле.
Поднялись в квартру, где все было перевернуто и стал запах смрада. Открыв окна, я чуть прибралась. Молча поднялись дети. Как будто виновные, они пробрались в комнату и сели вместе. Мы сидели молча. отводя друг от друга взгляд, как будто были в чем-то виновны. Усевшись в жалкой позе, золовка, расширенными глазами смотрела в одну точку. Она оказалась гораздо трудной ситуации, чем я. Девушки часто мечтают о мужчине и первую встречу с ними представляют с особенной любовью и трепетом. Сейчас эти мечты разрушились, в жизни восемьнадцатилетней девушки ворвался мужчина как зверь, варвар, насильник. От сказочных представлении, невольное столкновение с кошмарной действительностью ее повергло в такое уныние и страх, что ее глаза расширились до ненормальности и в них виднелась такая душераздирающая боль, которую я не видела никогда.
В тени комнаты и горьких мыслей наступило время заглянуть в себя. Я вспомнила крест, взяла его из под подушки, подошла к младшему сыну и повисла на шею. Он прекрасно знал мое отношение к кресту, и когда я опустила ему крест на грудь, он удивленно взглянул на меня. Он понял, что случилось что-то большое, очень большое, но его детский ум навряд ли мог осмыслить это. Он с любопытством смотрел не меня, но спросить ничего не посмел.
- Теперь ты носи этот крест, и чтоб Бог никогда не оставлял тебя! – эти слова, тихо как молитву произнесла я и проглотив комок, подошедший к горлу, отошла от детей.
В доме все еще стояла мертвая тищина, когда с лестницы послышались топот сапог, и новая группа захватчиков поднялась наверх. Они принесли трофейную еду и заставили нас накрыть стол. «Пойдем, постреляешь с автомата», - сказали они детям и вывели на улицу.
Через какоке-то время послышались резкие звуки выстрелов. Они чуть-чуть выпили и закусили. Меня и золовку развели по комнатам, началось все сначала. Я уже хорошо знала, что сопротивление не имело смысла, поэтому с мольбой и слезами на глазах просила о помиловании, разжалобить их никак не получалось. Мои просьбы, мольба больше были похожи на горох брошенный об стену, чем беседу с людьми. И эта ночь прошла в постоянной круговерти слез и унижения, но случилось и невероятное.
Зашедший ко мне очередной насильник, не знаю по счету какой, услышав мою мольбу, неожиданно остановился, заглянул в мои почерневшие и съеденные от соли глаза, увидел мое стертое лицо, безжизненное тело и острую боль, которую я испытывала от насилия, сел на стоявший рядом стул. В расторопных, быстрых, как у рыси, глазах я впервые увидела человеческое сочувствие.
Вошедший спокойно, сочувственно объяснил, что все это временно.
-"Беспомощность, насилие и жестокость для войны совершенно нормальные своиства, поэтому все это надо принимать терпеливо" - сказал он и продолжил - "никому не говори, что не воспользовался тобой, а то такая гуманность для меня может обернуться неприятностью".
Он еще некоторе время оставался со мной и о чем-то говорил. Но я находилась в таком беспомощном состоянии, что его слова слышались откуда-то издалека, и я их почти не различала. Хотя, сочувствие и жалость, исходящие с его глаз, успокаивали и возвращали надежду.
Из туманного мироздания ума двинулась мысль, высветилась и олицетворилась: "Они все простые гайки разрушительно жестокой той машины, которую называем войной. Настолько простые, ничтожные и бесправные, что самостоятельно не могут решить "жить". Даже в этом они чего-то боятся и учитывают чьи-то интересы. Они настолько органично сросшиеся с общим механизмом зла, что самостоятельное любое человеческое отклонение для них становится почти преступлением".
Наверное, самое страшное свойство войны заключается как раз в том, что она делает людей зверьми. Это настолько сильное свойство, что у меня возникает сомнение в том, что были ли эти захватчики хоть когда-нибудь людьми? Существовало ли в природе такое время и место, когда они чувствовали себя детьми старой матери, или ощущали себя братом молодой девушки, или мужьями нормальных хозяек дома и носили в себе отцовское отношение к детям?!
Очередность на моем ложе насильников была настолько впечатлительна, что даже тогда, когда их не было, перед глазами стояли их высокие мускулистые, стройные, как у зверей агрессивные тела, отпущенные бороды и огненные глаза без присутствия какой-то мысли.
Утром во двор заехала какая-то белая иномарка и нам посигналила. Сидящий у руля в форменной одежде человек приказал спуститься. Приблизившись к машине, я узнала, что это был тот пришелец, который пожалел меня. Он строго велел мне садиться в машину. Я отказалась, тогда он не задумываясь, выхватил пистолет.
В комнатных чустах и халате я села в машину и мы двинулись в сторону Гудаута.
- "Ты мне нравишься и долждна стать моей женой, - начал он - в Гудаутах у меня дом, временно поживем там, а потом заберу тебя в черкессию.
Я объяснила, что не могу выйти замуж за него, так как я замужем и у меня есть дети.
- "Для меня это не имеет значения", - ответил он. Поняв, что его не интересует мое объяснение, постаралсь вызвать отвращение ко мне:
- "Как ты можешь взять меня в жены, когда все твои однополченцы переспали со мной"?
- "Это не твоя вина и спроса от тебя быть не может", - ответил он.
Поняв, что сопротивление не имело смысла, я подчинилась течению событий.
- "В Гудаутах воздержись от разговора, чтобы не поняли, что ты грузинка", - предупредил он.
Из Сухуми до Гудаута доехали благополучно и заехали во двор красивого дома, где нас встретила рослая черкешенка, представившаяся женой моего нового жениха. Вскоре собралось 10-12 гостей и началось застолье. Среди гостей были абхазцы, русские и, конечно, черкезы.
Один абхазец, у которого на груди прикреплено было три фотографии, сказал: "Виталий Гедза, наверное, вы знаете. Его одна сестра жила в селе Варча. Бедняга, окзывается, была беременна. Грузинские боевики вспороли ее живот, а младенца перед глазами матери бросили в костер. И разве после этого можно их щадить?!"
- "Откуда вы знаете, что в Варчах случилось такое зверство, и что это сделали грузины?! Разве можно так сразу доверять непроверенным слухам", - включилась я в разговор. Гости опянели. Мое покрасневшее лицо и резкий тон заставил их заинтересоваться моей этнической принадлежностью. Мой кавалер приказал мне выйти в другую комнату. Куда, не медля, ворвалась его черкесская жена и схватила меня за горло.
- "Грузинская сука, придушу тебя собственными руками, что хочешь занять мое место, не дождешься".
Я была настолько уставшая, что даже если бы захотела оказать сопротивление рослой черкешенке, все равно не смогла бы. Почти без чувств упала на пол. Ее большие руки мощно обхватили горло, коленями она встала на меня, а с ее разъяренного рта на меня лилась брань, брызги слюны. От боли я вертелась, но освободиться никак не могла и стала терять сознание, но в это время в комнату ворвался мой кавалер, оторвал разъяренную женщину от меня и вывел во двор. Там он ее раздел, снял с себя длинный ремень и стал бить. Это было удивительное зрелище: полный двор людей, огромное белое, голое тело женщины, длинные, черные, распущенные волосы и сильный звук ремня. Женщина извивалась от боли, но не проронила не одного звука.
Спустья какое-то время все успокоилось. Гости вернулись к столу. Женщина там же во дворе оделась и поднялась в дом. Злобу на ее лице сменила выражение боли, обиды и оскорбления.
Взглянув на меня искоса, она сквозь зубы процедила:
- "Тебе не жить, не только потому что заняла мое место, а за то, что меня за тебя наказали, - не прощу этого."
Среди гостей находилась одна возрастная, знатная абхазка. Найдя момент, я ей открыла сердце и все рассказала. Объяснила, что у меня в Сухуми семья, что меня насильно привезли сюда, и что у меня нет никакого желания быть женой этого беспредельного черкеза. Она обещала помочь. Поздно ночью, когда члены застолья, мертвецки пьяные легли спать, почтенная абхазка взяла меня за руку и вывела на трассу, остановила первую ехавшую в Сухуми машину, попросила довести меня до города и предупредила, чтобы я не оставалась дома.
- "Не оставайся в Сухуми, а то этот черкез найдет тебя и беспощадно накажет.
Вернувшись домой, я на дверях увидела вывеску "пресс-пункт" и две абхазские фамилии. Рядом с домом меня встретили истерзанная от насилия золовка и испуганные от переживания дети.
Чуть взбодренная, золовка сообщила, что вернулись наши абхазские соседи. Это были хорошие люди и нормальная семья, с которыми мы до войны дружили. Во время войны они уехали, а квартиру оставили нам на присмотр. Пока мы могли, стерегли квартиру, но потом это стало невозможным и вместе с другими квартирами, в том числе и с грузинскими, взломали и их квартиру. Они помнили наше добрососедство и в знак этого повесили эту табличку, а утром собрались вывезти нас в сторону Адлера.
Была поздняя ночь, когда появилась еще одна группа пьянных боевиков. Сорвав таблицу, они ворвались в дом. Отдельно с золовкой и отдельно со мной, все началось сначала. По законам ислама, захватчики большое внимание уделяли личной гигиене. Но запах их пота сковывал дыхание. Никакого удовольствия не ощущалось, но был один момент, когда во время чередования мужчин, я ощутила какую-то похожую на приспосабливаемость чувство и почувствовала знакомую дрожжь, которая возникла в глубине тела и как полусонное подтягивание передалось всему организму. Сердце встрепенулось и ускорилось. Сильный поток крови, поднявшись ниже спины, силой ударил в голову. Лицо стало гореть. Тело невольно напряглось и вытянулось. Глаза были закрыты, и во тьме, царившей вокруг я явственно почувствовала, что с большей скоростью опускалась в пропасть. Скорость постепенно увеличивалась и падение ускорялось. В один момент я попробовала воздержаться, но тело не подчинялось. У висков бушевала кровь, а в ушах слышался шелест моря, голову охватил легкий туман.
Падение еще более усилилось, увеличилось, ускорилось, и наконец-то я почувствовала приятное соприкосновение с тьмой пропасти. Как будто охваченные судорогой сосуды внезапно, вместе открылись и освободились. Кровь, бурля, свободно полилась по кровеносным сосудам. Тело охватила нега. Глубоко вздохнув, открыла глаза и сразу протрезвела. Глаза столкнулись на преподнявшее тело насильника, и эта неприятная реальность облила как холодной водой. Он, смотря сверху, улыбнулся и указательным пальцем коснулся мого носа. На фоне черной бороды, его белые зубы сверкали еще больше белизной.
При виде улыбчивого лица насильника, ощутила странный стыд. Меня охватило такое чувство, как будто в чужой семье воровала ценную вещь, и хозяин меня застал. Я отвернула голову в сторону, чтобы уйти с поля зрения насильника, но от страшного переживания стыда уйти не смогла. Мне захотелось выйти из моего распластавшего на кровати тела, так как это «опущенное» тело кроме ненависти во мне ничего не вызвало. Я его страшно ненавидела из-за бурлящих в нем страстей и дрожи, которые обжигали мою совесть и отягощали душу. Никак не могла смириться с тем, что с ворвавшись в дом врагом, опустилась в минутную женскую слабость.
Ненависть к собственному телу постепенно сменилась жалостью. Было жалко слабое тело, которое не имело никакой возможности противостоять возникшему против него насилия. Оно было немощным не только против этого насилия, но даже не смогла пересилить свои человеческие страсти.Чувство бессилия во мне вызвало ненависть ко всем и ко всему. Из-за того, что я попала в такое положение, я винила всех и вся. Это чувство в душе увеличивалось и растекалось, как дым от сигарет.
Враг есть враг и с него спросу мало, но вы, которые считались своими, что вы сделали для моей защиты и таких же беспомощных женщин? Почему вы нас не уберегли от унижения, оскорбления, стыда? Почему оставили на произвол судьбы? Я одна, и трагедия одной женщины не может разбудить вашу душу и совесть, но рядом со мной есть и вторая, и десятая, и сотая, и Бог знает, еще сколько, с которых сорвали чистое одеяние и обесчестили. Мы же ваши сестры, дети, жены и родные, как вы нас оставили на произвол судьбы, в этом аду, где мысль как маятник качается между страшным угрызением совести и самоубийством. Как вы могли пожертвовать этими малышами, которые кроме чистоты и патриотических стихов ничего не знали, и вдруг, самое любимое для них существо оакзалось обесчешенное и уничтоженное.
Понятно, что война есть война, но для детей и женщин она гораздо большее зло. Это такой ужас, который в людях самое, что есть человеческое, уничтожает своими кровавыми руками. Умершая в людях человечность не что инное, чем кладбище живых, где чистота, чесность и благородство вызывает ироническую улыбку.
Утром насильники еще были в доме, когда приехали наши доброжелатели абхазцы. Увидев оборванную табличку, они поссорились с пришельцами, но на последних большого впечатления это не произвело. Что-то бормоча, они вооружились и ушли в город. Говорю город, а то от красивейшего Сухуми, с которым связывало столько детских воспоминаний, почти ничего не осталось. Его многолюдные улицы были пусты и только голодные, злые, как собаки, боевики бродили по ним. Вокруг было все сожжено, взорвано, уничтожено. Сухуми представлял город руин, традиционный добросердечный взгляд сухумцев куда-то пропал и вокруг царило буйство, крики, плач и слезы.
Абхазцы всех посадили в машину и направились в Адлер. Без препятствии проехали Эшеру, Новый Афон, Гудауту,Гагру, Леселидзе и подъехали к границе. В ожидании оформления документов стояла большая очередь машин. Наш абхазский сопровождающий пошел договариваться с таможенниками.
Опять остались мы со своими мыслями и грустью наедине. По дороге к Леселидзе привлекло одно обстоятельство. Как только мы пересекли Гумистинский мост в сторону Гудауты, следы войны совершенно стали отсутствовать. Ни взорванных домов, ни других разрушенных здании, как в Сухуми здесь не наблюдалось. Здесь войну могла напоминать лишь кое-где появившиеся военные и коричневая бронетехника. Вспомнилось сказанное одного захватчика: «Ваши снаряды все падали в море и убивали только рыб, которые всплывали на поверхность воды. Потом местные рыбаки на лодках заплывали и каждый день собирали свежую рыбу. Вспомнилось, что когда из Сухуми начиналась стрельба и шумиха, мы наивно думали, что на противоположной стороне камень на камень не остался. Мы думали, а Бог, как говорится, смеялся. Во время этих раздумии, вдруг открылась дверь, в салоне показалоась небритая голова пришельца. Он часто гостил у нас и я узнала его с первого взгляда. Мы для них представляли обесчешенных людей без рода, племени и имен. Они к нам обращались по адресам проживания, например, если вы жили на ул. Лакоба №14, называли Лакоба четырнадцать. И тот боевик к нам обратился именно так, приказал выйти из машины и идти обратно.
- "Нас не обманут...." Если до этого избавиться от них я старалась терпением, то сейчас, когда находились почти у финиша, подвели нервы. Выскочив из машины, я всем голосом заорала на него.
- "Стреляй, стреляй, если ты мужик. Я живой никуда не поеду. Стреляй и избавь от этого ада".
На мой крик из машины высыпались люди и собрались вокруг нас. В ту минуту я искренне желала, чтобы он выстрелил и все закончилось бы.
Такая искренная истерия в черкезе и в другом боевике вызвала сочувствие. Он вместо угроз стал меня успокаивать.
- "Когда ты удрала из дома Аслана, он очень оскорбился. Тот час приехал в сухуми и когда узнал, что вы оставили квартиру и уехали, сжег весь дом, а нас срочно отправил на таможню, чтобы мы вас арестовали и вернули назад. Жалко все возвращать обратно, мы вас отпустим, но с одним условием, что это никому не говорите".
Он меня утещал и что-то бормотал, но я не была в состоянии что-нибудь слышать. В конце он с кармана извлек купюру 50 000 рублей и протянул мне. Купюра была совершенно новой. я даже представления не имела о существовании таких купюр и невольно уставилась на изображение кремля с развивающим триколором.
- "Возьми, впереди у вас еще много препятствий и кто знает, где и что понадобится".
Захватчик искренне предлагал, вытянутую как струна купюру, и когда положил ее мне в карман, я не сопротивлялась.
С помощью наших провожатых абзхазскую таможню мы прошли быстро, но на русской, как говорится, нас ошкурили.
Из здании вышла, одетая в таможенную унифрму, полная женщина средних лет, первой подошла ко мне и стала обыскивать руками. Энергично общупала грудь, опустилась к талии и бедрам, просунула руку между ног, от ее энергичных движений мне стало шекотно и неловко. Оставив меня. она повернулась к золовке, которую как бы заранее взяла на заметку, положила на нее глаз, пока внимательно осмотрела сверху вниз, затем вернулась к груди, руками вульгарно ощупала ее девичьи груди, которые сразу как бы опустились и потеряли былую стать. Затем обе руки просунула под платье, провела область лобка и замерла.
- "О, красавица, - сказала она подозрительно ревностной улыбкой, засунула руки золовке в трусы, вытащила завернутый в целофан сверток с драгоценностями. Открыла его, вытащила мои свадебные золотые часы и стала смотреть на них.
- "Зачем, брать эти остановившиеся часы. "генацвале"?
Она говорила по-русски, но последнее слово проговорила так жеманно и растянуто, что мне стало противно.
- "Для нас и часы и время давно остановились", - треснувшим голосом проговорила золовка.
- "Время пройдет, девочка, не бойся, время обязательно пройдет, а часы останутся у нас", - ответила обыскивающая, которая, видимо, была в хорошем настроении, и с ее лица не сходила циничная улыбка. Наши остановившиеся часы она бросила в целофановый пакет, вынула оттуда старинное бриллиантовое кольцо и одела себе на палец.
Для нас все уже было настолько безразлично, что конфискацию драгоценностей мы встретили почти без эмоций. Но во время обыска, неожиданно для меня имел место один факт, который без внимания нельзя было оставить. Когда таможенница золовку ляпала ниже талии, платье у золовки было поднято до конца вверх. Ее стройные ноги были оголены, и стоящие в очереди, мужчины обалдено смотрели на нее. Меня удивило ее абсолютное безразличие и отстутствие каких-либо эмоций на лице. Такое безразличие оказалось неожиданным для меня, так как раньше у нее был совершенно другой характер.
Когда я пришла в их семью, она была еще маленькая девочка с бантиками, которой я помогала делать уроки. Потом она выросла и стала девушкой. Вместе со зрелостью она стала настолько скромной, что во время купания на море сторонилась многолюдных мест или ждала вечера, чтоб берег был свободный от оюдей. В присутиствии других она стыдилась раздеваться, что для девушек, выросших у моря, крайне редкой явление. Если во дворе ветер поднимал подол ее одеяния, она с необыкновенной живостью хватала подол платья и тянула вниз. А сейчас стояла перед стольким народом с поднятым платьем, обыскивающая капалась в ее обтянутых белых трусах, а ее лицо не выражало ни стыда, ни неудобства. ЕЕ вид меня очень удивил, я поняла, что за эти несколько дни она очень изменилась. Ее девичья скромность, чистота и невинность остались в Сухуми. Сейчас она была замученная женщина, для которой стыд был нипочем. В ее действии, а вернее, в бездействии, было что-то такое вульгарное, животное, что, наверное, может породить только война.
После нас стали обыскивать и детей, с младшего сняли крест. За другое я не просила, но за это взмолилась: "Верните, не отбирайте у ребенка крест", - но меня никто не слушал.
Почти голые и босые с одной подаренной врагом купюрой пришли в аэропорт Адлера, где самолет агентства "Орби" готовился к вылету в Тбилиси. У траппа сердце страшно потяжелело.
Куда иду, кому я нужна, обесчешенная, оскорбленная, даже родные отводят глаза от меня? Зачем жить? Неужели для того, чтобы носить эти кошмарные воспоминания? Ведь их ничто не сможет стереть с моей памяти?! Но жизнь гораздо больше, чем стыд падения частной трагедии.... Взяв детей. поднялись на трапп.